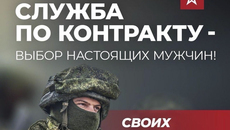Татьяна Устинова: книги о маньяках убрать с витрин

«Отмена Пушкина — редкий идиотизм». За диагнозом даже к психиатру ходить не нужно. Это было первое и не единственное, в чем мы оказались единодушны с Татьяной Устиновой.
Русская легенда женского детективного романа призналась, о чем или о ком писать не станет ни за что на свете, почему стоит заново перечитать классику, а еще поделилась своими планами на предстоящую поездку в Новосибирск.
Татьяна Витальевна уже почти 20 лет не была в столице Сибири. Свой приезд в 2006-м хорошо помнит, особенно — Академгородок.
— Татьяна Витальевна, Вы верите в спасительную роль литературы?
— Да, конечно. Литература — это код. Ведь что такое слова? Странным образом составленные из странных знаков попытки выразить то, что человек чувствует, думает, переживает и чего боится. Вот почему я не верю, что компьютерная реальность победит настоящую? Компьютерная — очень простой код, два знака. А алфавит? Русский — 30 с лишним знаков! Двоичный код никогда не сможет поспорить с 33-значным. Так и литература.
По словам Татьяны Устиновой, автор создает мир, «тот же Чехов или Лев Толстой — целые вселенные, чтобы понять, исследовать то, что происходит в реальности. Литература — это познание мира. Читатель туда погружается, и, пусть этот литературный мир не так сложен, разнообразен и причудлив, как реальный, он безопасней и понятней».
— Человеческая жизнь смехотворно коротка в масштабах истории, цивилизации и планеты, причем еще исключаем периоды, когда мы в младенчестве и в старческом маразме, — говорит Татьяна Витальевна. — За эти ничтожные несколько десятилетий узнать о мире, как он устроен, о глубине человеческих падений и высоте человеческого духа мы можем только из литературы. Ни от соседей, ни из Интернета, ни от подружки или психотерапевта. Только прочитать у Монтеня, Вольтера, Толстого, Чехова. Этим и сильна литература, что дает человеку возможность что-то понять о самом себе. И в этом я вижу ее спасительную роль.
— Писатель должен любить своих героев, есть ли у Вас любимый персонаж?
— Если писатель не любит героев, он ничего не напишет. Все начинается с любви, как написал Роберт Рождественский. И у меня есть любимые персонажи, как в моих книжках, так и в книгах других писателей.
Я каждое лето перечитываю «Анну Каринину», у меня такая традиция. У Толстого есть персонажи, которых я горячо не люблю, а есть персонажи, которых я люблю отчаянно. Серёжу, сына главной героини, и Алексея Александровича Каренина, он вообще, как мне кажется, мой друг и самый благородный человек в этой книге. Люблю Долли, замученную детьми, безденежьем и неверностями мужа. Старого князя Щербацкого.
В «Дуэли» у Чехова страшно люблю дьякона Победова и доктора Самойленко. Там, собственно, конфликт «делания и неделания» меня стал интересовать все меньше и меньше, а дьякон и доктор останутся со мной навсегда: их разговоры, как дьякон хохочет, а Самойленко готовит форель. Это такое наслаждение, кино с этим не сравнится никогда.
— Вы так вкусно рассказали, что хочется еще раз перечитать.
— Надо все хватать и читать, и не ссылаться, что нет времени. Есть общественные приличия: как прийти на работу одетыми, так и чтение.
— А как Вы думаете, что будет дальше с бумажной книгой?
— Не читаю электронных книг, особенность зрения. Но носитель не важен. В древнем Египте писали на папирусах, в древнем Новгороде — на бересте, в древнем Китае — на шелке, пока не изобрели бумагу. Все время люди писали и читали. Не важно, на чем, если удобно — с монитора или «читалки». В моей личной системе координат — только бумажная книга, и весь наш дом ими уставлен.
Недавно был смешной случай, когда мы с моей сестрой были в Пятигорске по приглашению Российского фонда культуры. Были там пять дней и, естественно, взяли с собой книжки. На четвертый день книжки «закончились». Пошли в магазин, и я говорю: «Наташа, дай слово, что позволишь мне купить только одну книгу. Зашли. В итоге я четыре привезла в Москву.
Что дальше будет с бумажной книгой? Она нынче очень дорогая, не устаю об этом говорить издателям и властям, если оказываюсь на каких-то ток-шоу, где присутствуют люди, которые что-то могут поменять. Я не политик, не экономист, но надо, наверное, вводить какие-то квоты, прикладывать какие-то государственные ресурсы. Хотя бы на детские книги часть затрат могло бы взяло на себя государство. Ребенок не может смотреть картинки и изучать книжки-раскладушки в компьютере, ложиться с ними спать, да хоть читать под кроватью, если его туда понесет, хоть в ванне! У ребенка книжки должны быть с рождения. А они так дорого стоят, что страшно представить. Конечно, если нет возможности покупать бумажные, пусть будут электронные. Да хоть на бересте.
— Будь Ваша воля, что бы убрали подальше с книжной витрины, а что, наоборот, поставили вперед?
— Убрала бы, причем абсолютно не дрогнувшей рукой, книги о маньяках. Это стала очень модная тема. Мне кажется, она тоже пришла откуда-то из евроатлантической культуры. Есть наказуемые вещи, за любым преступлением всегда следует наказание. Писать истории о том, как некая субстанция, чудовище мучает и убивает детей, женщин или старушек, чтобы пощекотать нервы читающей публике, — преступление. Разжигание этого нездорового интереса к крови, смерти, мучениям, ужасам, к слезам близких — последнее, чем должен заниматься автор.
Что бы я выдвинула на передний план? Литературу о здоровых отношениях родителей и детей. Почему-то особенно «литературные дамы» любят этим увлекаться: уроды-матери и садисты-отцы растят уродов и садистов-детей, которые друг друга ненавидят. Это полная ерунда. Всем девочкам, которые выходят замуж за садистов, нужно объяснить, что в ту же минуту, как к ним применено насилие или рукоприкладство, они должны бежать, бросив негодяя, а лучше — сдав его в полицию. Если зуб болит, нужно идти к врачу, вытаскивать гнилой, вставлять нормальный. В системе отношений, разумеется, есть как здоровая часть, так и гнилая, и ее, с моей точки зрения, нужно перестать рассматривать «под лупой».
Я бы на витрины, особенно в преддверии Нового года, поставила Диккенса с детскими историями. Там в любом финале герой, который страдал, получает весь мир, горящий камин, любящую семью, горячий чай и в центре стола самую большую индейку, которую только удалось найти в лавке мясника.
— Да, там есть ощущение справедливости в человеческой жизни.
— Абсолютно верно.
— Про какого злодея вы бы не написали детектив? Про маньяка точно, а еще?
— Когда в издательстве приняли решение печатать мою первую книгу, а это было 25 лет назад, редактор спросил, нет ли у меня в запасе еще одного романа? Да, были разрозненные записи, я их собрала, принесла, рассказала о чем, в ответ редактор сказал, надо бы добавить черноты. И хотя у меня как у начинающего автора права голоса не было, я ответила, что никогда не стану писать о расчлененных трупах, об изнасилованных детях. Никогда в жизни героиней моего романа не будет страдающая проститутка, которую покинул страдающий наркоман. Вот это все не ко мне. Глубоко убеждена, для того, чтобы описать в романе, как пахнет помойка, совершенно необязательно в этой помойке год сидеть, копаться в ней, смаковать, как выглядит, смердит. Это не задача писателя. Такие авторы есть, но им прямая дорога к психиатру.
— Нужен ли профессиональный стандарт писателя? Вот говорят, что такой профессии до сих пор в реестре нет.
— Должна признаться, меня это до такой степени не волнует, но, наверное, это очень важно и правильно — вопросы социальной защищенности, пенсии. То, что занимает и должно занимать умы чиновников. Пока у нас, авторов, есть возможность писать и печататься, мы абсолютно счастливые люди. Нас занимают герои, идеи, выдумки, все, что называется благословенным словом «ПИСАТЕЛЬСТВО», совершенно потрясающая Богом данная возможность.
— В Новосибирске, помимо «Книжной Сибири», какие планы?
— График достаточно плотный. У меня есть мечта — сходить в «Красный факел». Знаменитый за всю Россию театр, кто там только не играл, и кто там только не ставил. Это страшно любопытно.
— Татьяна Витальевна, вы обещали, что Новосибирск однажды попадет в Ваш роман. Может, и про «Красный факел»?
— Я люблю, когда действия книжек происходят в разных городах, не только в Москве и Питере, но и в деревне под Тверью. Знаю, какие там магазины, как говорят люди, какие отношения у соседей. Я закончила книжку буквально две недели назад, там действие происходит в Пятигорске. Но для того, чтобы написать, нужно город чувствовать. Одного приезда в Новосибирск мало, в нем нужно походить, погулять, посмотреть. Если в случае с Пятигорском, то — на Машук, а если в случае Новосибирска, то на реку, понимаете? Сказать, что я готова завтра написать про Новосибирск, не могу. Увидимся и посмотрим.
 EUR 91.0281
EUR 91.0281